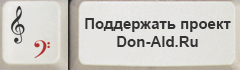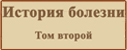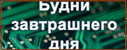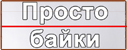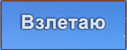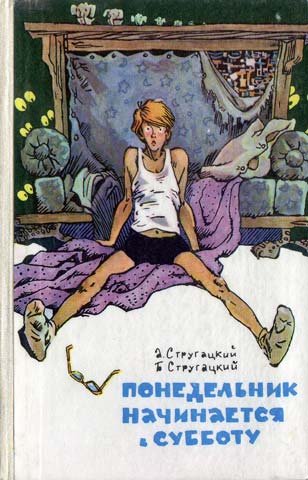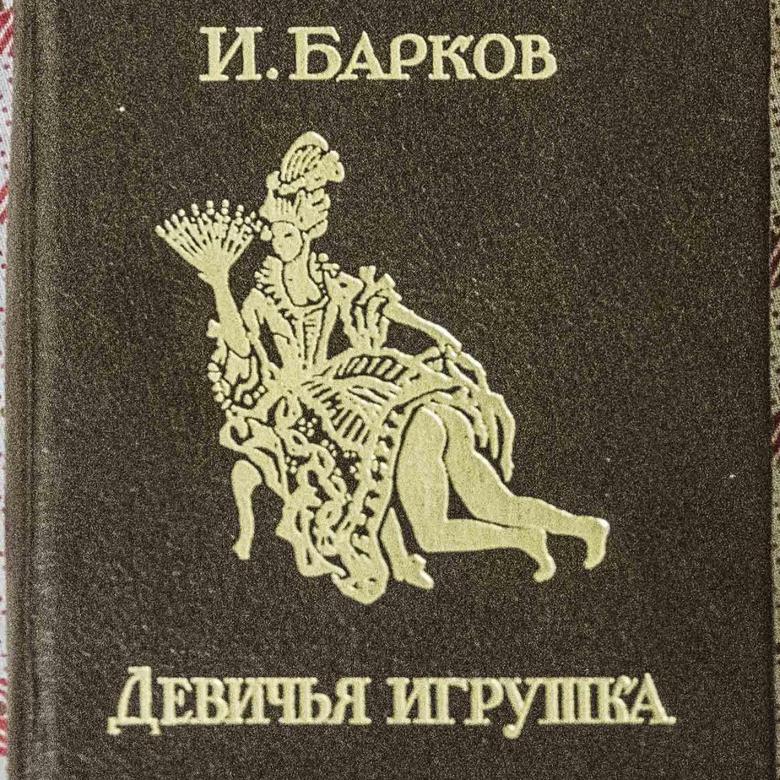о книгах и не только
Дарю идею
Ради спортивного любопытства смотался в прославленный «Буквоед» на Народной. Томики Окуджавы с нашлёпками отсутствуют — убрали или продали, не знаю. «Часовые любви» на полке есть, но без плёнки и наклейки, «Лирика» не обнаружена.
Приценился к тому Высоцкого «Прерванный полёт», сборник стихов и прозы. 1299 рублей. Крутовато. Мой двухтомник сейчас раз в пять дешевле стоит.
Жаль, что не успел книжки застать. Я б поднапрягся и купил бы — лет через десять это будет офигенный раритет. При условии сохранения плёнки и нашлёпки.
Кстати! Это шикарная бизнес-идея! Берёте книгу давно умершего автора, известного, но не пользующегося спросом. Клеите на книгу лейбл иноагента — и вуаля! Книжка улетит, магазину халявная реклама.
Настаивать на своих ошибках…
Из Фейсбука:
Сразу три издания стихов Булата Окуджавы продавали в Петербурге с «иноагентской» маркировкой, хотя в магазине утверждали, что такая книга была в единственном экземпляре.
Корреспондент издания «Бумага» обнаружил в магазине «Буквоед» на улице Народной два разных сборника стихов Булата Окуджавы, промаркированные как произведения «иностранного агента», с пометкой «18+».


Накануне о покупке книги «Стихотворения» Окуджавы с маркировкой «иноагента» рассказала «Новая газета». Фотографию книги опубликовал в соцсетях Борис Вишневский. После этого в «Буквоеде» заявили, что произошла техническая ошибка: книгу было необходимо маркировать из-за предисловия признанного иноагентом Дмитрия Быкова, однако фамилию напечатали не ту.
«Таких книг с неправильной маркировкой больше нет в интернет-магазине и магазинах сети в Петербурге. Эта книга была в наличии в одном экземпляре, это старое издание. Для нового маркировка не нужна», — заявили «Фонтанке» в пресс-службе «Буквоеда».
Однако книги «Часовые любви» и «Лирика» находились в продаже днем 27 ноября. В их описании на сайтах издательства и книжных магазинов «Бумага» не нашла информации о предисловиях за авторством «иноагентов».
Сходить в этот «Буквоед», что ли? Может, у них до сих пор Окуджава иноагентом числится? Кстати! Цицерон когда-то сказал: человеку свойственно ошибаться, но настаивать на своих ошибках может только полный болван.
Дмитрий Травин, «Как мы жили в СССР»
Набрёл на интересную книжку, настоятельно рекомендую к прочтению всем совкострадальцам, особенно сопливым малолеткам, которые даже Ельцина живьём не видели. Дмитрий Яковлевич Травин скрупулёзно собрал массу материала, дополнил личными воспоминаниями и в итоге получилась объективная картина быта советских людей. Всё это мне уже было знакомо, некоторые источники я тоже читал и цитировал на сайте. Но кое-что новое узнал. Например, о процессе приобретения автомобиля — для нас с матушкой машина была недостижимой роскошью. Особенно интересно было прочитать о региональных особенностях снабжения населения. Например, про молоко пониженной жирности я до сего дня не знал.
Электронную версию книги можно купить на Литрес, бумажную здесь.
В долгу перед юным читателем
Я уже публиковал фрагмент этой статьи. Но, поразмыслив, решил выложить текст целиком. Во-первых, чтобы не было ощущения выдранного из контекста куска. Но, главное, чтобы вы могли ощутить всю прелесть изложения. А заодно понять, какие книги, по мнению авторов статьи, были нужны советским детям. Особенно порадовала лихой вираж: сперва авторы сетуют на отсутствие хорошей приключенческой книги, а затем ругают произведения Георгия Матвеева.
Читать далее«Блокадный дневник» на телеканале «Культура»
Я практически не смотрю федеральные телеканалы и потому проморгал показ фильма «Блокадный дневник» на канале «Культура». Я чуть больше года назад смотрел эту картину, рецензия есть на сайте. Если коротко: это мог быть гениальный фильм, если бы создатели отнеслись более ответственно к истории Ольги Фёдоровны Берггольц, к истории блокады. Слишком много неточностей, ляпов… Но, несмотря на все огрехи, фильм посмотреть стоит. И я был удивлён, когда мне прислали ссылку на петицию, где «Блокадный дневник» именуется «пасквилем, карикатурой», которая вместо героизма ленинградцев показывает сходящих с ума от голода зомби. Далее предлагается завалить «Культуру» гневными письмами, писать запросы депутатам и прочим властям, чтобы запретить «Блокадный дневник».
По поводу героизма. Спору нет, в «Блокадном дневнике» не показаны трудовые будни блокадного Ленинграда. Не показан Кировский завод, продолжавший выпускать танки. Наверное, было бы куда правильнее, если бы Фёдор Берггольц провёл для дочери экскурсию по фабрике имени Тельмана, показал, как рабочие шьют форму для защитников города Ленина. Может, и гневных отзывов было бы поменьше. Вот только и книга, и фильм о другом. О том, что сама жизнь в осаждённом городе — подвиг. Ежедневный, ежечасный, ежесекундный подвиг. Пройти десять километров в лютый мороз, когда организм истощён и холод кажется в десять раз сильнее — это просто немыслимый подвиг. Но об этом подвиге молчали тогда и стараются забыть сейчас.
Здесь все чужие и противные люди. О Ленинграде все скрывалось, о нем не знали правды так же, как об ежовской тюрьме. Я рассказываю им о нем, как когда-то говорила о тюрьме, — неудержимо, с тупым, посторонним удивлением. До меня это делал Тихонов. Я была у него сегодня, он все же чудесный.
Нет, они не позволят мне ни прочесть по радио — «Февральский дневник», ни издать книжки стихов так, как я хочу… Трубя о нашем мужестве, они скрывают от народа правду о нас. Мы изолированы, мы выступаем в ролях «героев» фильма «Светлый путь».
(с) «Ольга. Запретный дневник».
Разговор с Григорием Романовым был коротким: Ленинградская блокада — героическая эпопея, а вы изобразили не подвиг народа, а страдание и ужасы голода, все к этому свели; получается, что вы развенчиваете историю великой заслуги, стойкости людей, как они сумели отстоять город; вам интересно, как люди мучились. Это чуждая нам идеология.
Примерно такую отповедь мы получили в обкоме партии, когда публикация «Блокадной книги» была запрещена. Второй раз то же самое выслушал Иосиф Ефимович Хейфиц, знаменитый кинорежиссер, лауреат всяких премий, когда ему запретили ставить фильм о блокаде по нашей книге.
(с) Даниил Гранин, «Как жили в блокаду».
История повторяется. На сей раз с фильмом «Блокадный дневник». Пусть не самым талантливым, исторически не всегда точным. Но единственно честным из всего того кинохлама про Великую отечественную, что вывалили на наши головы за последние два десятка лет.
P.S. Ещё одна цитата из «Блокадной книги» и маленькая история. Одной из претензий разного рода «историков» и «критиков» был внешний вид жителей Ленинграда. Мол, на кинохронике и на фотографиях все чистенькие и беленькие.
«Спала под двумя ватными одеялами и клала два нагретых утюга: один согревал ноги, а другой грудь и руки. Утром одеяла покрывались белым инеем» (Попова Ульяна Тимофеевна).
«Цвет кожи необъяснимый — многомесячные коптилки, и все это въедалось… В валенках спали… Свитер, валенки, пальто, брата пальто» (Бабич Майя Яновна).
И после этого — баня! Представляете?
«Первая баня! — восклицает Майя Яновна. — Ой!.. В первые дни стояли часов по восемь — с десяти утра занимали очередь и к вечеру попадали. Я все-таки прорвалась туда недели через две.
Это был такой ужас, когда они все голые и падали — силы не было тазы нести. Господи! Какой кошмар там можно было увидеть! Мыла у многих не было, терлись-терлись некоторые и без мыла. И тут же падали. Медленно очередь шла, медленно мылись, но горячая вода была».
Когда я осенью валялся в больнице с приступом астмы, поступил к нам эдакий русский богатырь — мужик слегка за сорок, под два метра ростом, вес за центнер. Профессиональный военный, инструктор. Как-то раз зашёл разговор о блокаде. И Андрюха (имя изменено) сказал:
— Вот чего я не понимаю: они же месяцами не мылись, воды не было. Неужели вшей не было? Мы без бани месяц стояли, так вши заели. Единственное спасение, это полотенце на шею намотать, потом вместе со вшами оторвать и выбросить куда подальше…
Аркадию Стругацкому 97 лет
Чиполлино: от заката до рассвета
Добрый детский ужастик на ночь.
Первым пришёл профессор Груша, учитель музыки, со скрипкой под мышкой. За ним влетело целое облако мух и ос, потому что скрипка профессора Груши была сделана из половинки ароматной, сочной груши, а мухи, как известно, большие охотницы до всего сладкого.
Очень часто, когда профессор Груша давал концерт, слушатели кричали ему из зала:
– Профессор, обратите внимание – на вашей скрипке сидит большая муха! Вы из-за неё фальшивите!
Тут профессор прерывал игру и гонялся за мухой до тех пор, пока ему не удавалось прихлопнуть её смычком.
А иногда в его скрипку залезал червяк и проделывал в ней длинные извилистые коридоры. Инструмент от этого портился, и профессору приходилось обзаводиться новым, чтобы играть как следует, а не фальшивить.
Не очень Солнечный город
В Фейсбуке, в группе «Книги для больших и маленьких», зашёл разговор о трилогии Николая Носова про Незнайку и его друзей. Принято считать, что «Незнайка в Солнечном городе» утопическое описание светлого коммунистического будущего, а «Незнайка на Луне» — пародия мировую на буржуазию. Но, лично на мой взгляд, всё не так просто.
Читать далееНесколько слов о поэме «Лука Мудищев»
Литературоведения немножко. Наверняка все хоть раз читали известную поэму «Лука Мудищев», которую упорно приписывают Ивану Баркову. Но Барков «Луку» не писал, это чувствуется по тексту. Но есть более очевидное доказательство, что «Лука» написан уже после смерти Баркова:
«Анонимная эротическая поэма «Лука Мудищев» издавна приписывается Ивану Баркову, вопреки тому очевидному факту, что он никак не мог быть ее автором. В генеалогии Мудищевых упоминается прадед Луки — блестящий генерал при дворе Екатерины Великой; следовательно, Лука должен был бы родиться в самом начале XIX века, т. е. десятилетия спустя после кончины Баркова (1732–1768).»
(с) К. Тарановский
Ритмическая структура скандально известной поэмы «Лука»
Сама статья довольно нудная, но в финале есть интересное предположение:
«Сравнив четырехстопный ямб двух поэм Баркова с тем же размером в «Луке» (I–III), мы вынуждены заключить, что они имеют совершенно различную ритмическую структуру и посему никак не могут принадлежать одному и тому же автору. Стих «Луки» — это ямбический четырехстопник, типичный для XIX столетия (после 1820 г.), с характерным для этой эпохи ритмическим профилем: β4>β2>β1>β3. Все три варианта «Луки» обнаруживают поразительное сходство с пушкинским стихом 1830-х годов (лирикой 1830–1833 гг. и двумя поэмами: «Езерский», 1832, и «Медный всадник», 1833). Данное сходство, разумеется, вовсе не означает, что мы хотим приписать авторство «Луки» Пушкину; о подобной атрибуции не может быть и речи — пушкинская эротическая образность и юмор много утонченнее и не имеют ничего общего с грубым натурализмом «Луки». Куда справедливее будет предположить, что вышеупомянутые поэмы Пушкина способствовали созданию «Луки».
(…)
Если признать, что «Лука» является своеобразной пародией и на «Медного всадника», и на «Езерского» (и даже на «Мою родословную», 1830), то можно предположить, что поэма была написана после 1833 г. человеком, имевшим доступ к неопубликованным произведениям Пушкина[64] . Покойный Павел Наумович Берков как-то сказал мне по случаю (на конгрессе славистов в Софии, в 1963 г.), будто бы есть серьезные основания считать автором «Луки» брата Пушкина — Льва. Кто-то прервал наш разговор, и позже я так и не собрался спросить Павла Наумовича (хотя не раз с ним встречался), чтó это были за основания. Если Лев Сергеевич действительно был автором поэмы, то она, несомненно, написана им до смерти Александра Сергеевича.»
Василий Шукшин, «Верую»
Завтрева Дмитрий Львович Быков в «Колбе времени» будет самые страшные ужастики вспоминать. Не знаю, что там зрители накидают, на мой взгляд — одно из самых страшных произведений, которое я читал, это рассказ Василия Шукшина «Верую». Страшный он именно потому, что герои этого рассказа не верят ни во что — ни в учение Христа, ни в диктатуру пролетариата, ни в светлое коммунистическое будущее, о котором ежедневно трындят газеты, радио и телевидение. Но, ежели Максим и Илюха Лапшин еще имеют какие-то шансы веру обрести (не зря же у Максима «душа болит»), то поп — фигура обреченная. Нет в нем веры. Может, и не было никогда — в советские времена многие в семинарию поступали вовсе не из религиозных убеждений. Но мне кажется, что именно этот поп все же веровал когда-то. Однако веру утратил — возможно, причиной тому стала болезнь, не знаю. Просто сейчас в нем веры нет. «Я хочу верить» — ключевая фраза. Но и это еще не самое страшное. Беда в том, что неверующий поп продолжает служить, нести Слово Божие пастве. Много лет назад Виталий Каплан (ныне главред журнала «Фома») сказал мне, что сам священник может и не верить, поскольку он всего лишь проводник, соединяющий Бога и человека. Но проводники ведь бывают разные, с различной степенью проводимости. В том числе и с нулевой. Мне думается, что поп из рассказа Шукшина именно такой «изолятор», его неверие передается и Максиму. Финальная «молитва» это наглядно показывает.
А самое жуткое, братцы, что сейчас в РПЦ таких «изоляторов» большинство…